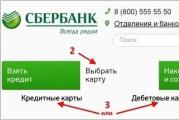Всеволод Кочетов - Чего же ты хочешь? Чего же ты хочешь? Что же ты хочешь автор.
Книга Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?» - это поистине легендарное произведение по трем причинам: оно оказало большое влияние на современников; его почти никто не читал; слухи об этой книге более известны, чем ее содержание.
Всеволод Кочетов был главным редактором журнала «Октябрь» и идейным сталинистом, яростно противостоявшим либеральному лобби в КПСС и в литературной среде. Современникам была хорошо известна полемика Кочетова с «Новым миром» и Твардовским. Нетрудно догадаться, то это бодание теленка с дубом не могло закончиться добром. Брежневское руководство (как, кстати, и нынешней режим) старательно лавировало между крайностями, и левые «охранители» ему были еще более чужды чем либералы. В итоге главная книга Кочетова была отправлена на полку, а ее автор покончил с собой.
Содержание «Чего же ты хочешь?» пересказать довольно просто. Группа зарубежных агентов влияния отправляется в СССР формально для составления альбома по русскому искусству, а фактически - для ведения подрывной деятельности. На своем пути они сталкиваются как с добропорядочными советскими патриотами, так и различными диссидентами и моральными разложенцами, вольно или невольно содействующими агентам тлетворного Запада. В романе есть несколько сюжетных линий, персонажи которых в финальных главах собираются в Москве для итоговой схватки сил света с силами тьмы. Конечно, в итоге добро побеждает, и негодяи с позором изгнаны из Советского Союза.
Не будем создавать мифы, «Чего же ты хочешь?» - отнюдь не литературный шедевр. Роман написан плохо, и лишь очень настойчивый читатель способен дочитать его до конца. Как писатель, Кочетов навсегда остался в 30–50-хх годах. По всей видимости, большое влияние на него оказал Аркадий Гайдар, романтический дух которого витает и над кочетовскими пейзажами, и над активизмом главных героев. Правда, поведение персонажей «Судьбы барабанщика» и «РВС», перенесенное в реалии конца 60-х, читается как откровенный фарс и не вызывает ничего, кроме смеха:
«- Феликс…- Ия остановилась посреди двора.- Там иностранка, из Англии, из Америки - не знаю, откуда, показывает стриптиз.
Да-да, надо это остановить. Нельзя это!»
Как понимает читатель, стриптиз показывался для разложения советской молодежи, а исполнительницей выступала тридцатилетняя дама, потомственная проститутка-эмигрантка-агент ЦРУ и специалист мирового уровня по русскому искусству (!).
К этому следует добавить, что на свою беду Кочетов решил бить по площадям и изобличить всех врагов советского социализма, которых он только мог себе вообразить. По шапке получают «деревенщики»-националисты, либеральная фронда в интеллектуальных кругах, церковь, эмигранты, еврокоммунисты, «золотая молодежь», разлагающаяся под тлетворным влиянием Запада, Бабель с Цветаевой и, конечно, троцкисты. Если диссидентов-антисоветчиков Всеволод Анисимович описывает достаточно реалистично, то западные представители пятой колонны настолько далеки от своих реальных прототипов, что не вызывают ничего, кроме здорового смеха. Троцкий же представлен создателем зловещего термина «сталинисты», которым клеймят честных и принципиальных партийцев (здесь Кочетов непроизвольно пародирует труды троцкистов, где термином «троцкисты» сталинисты клеймят истинных марксистов-ленинцев).
Есть ли в книге Всеволода Анисимовича удачные моменты? - в отличие от ангажированных критиков признаем, что отдельные главы «Чего же ты хочешь?» написаны неплохо. Автору хорошо удался портрет главной героини Ии, которая поразительно напоминает женские образы Ивана Ефремова. Сюжет с путешествием по России бригады западных спецпропагандистов-самозванцев в специально сконструированном фургоне несет в себе явный отсыл к экипажу «Антилопы-Гну» из «Золотого теленка». Жаль лишь, что Кочетов убийственно серьезен, здоровое чувство юмора - не его сильная черта. Повторим, что автор мастерски описывает знакомых ему по советской жизни персонажей. Вот, например, монолог националиста-почвенника Саввы Мироновича Богородицина, монолог, так часто звучавший на рубеже 80 - 90-хх годов:
«- Надо полагать, богачами вы были, Савва Миронович, если церкви ставить могли?
А уж не без того. Это сейчас всю историю перекроили. На бедняков да на кулаков Россию рассортировали направо и налево. А в те времена не бедняк был, а лодырь, шпана, шаромыжник. И не кулак был, а первый работник, первый хозяин на селе, крепкий крестьянин, который ни дня покоя не ведал, за урожай бился, за хлеб, за доходность земли. Ну, значит, доподлинно работящими были и мы, Богородицкие, ежели одни, семьей, на церковь могли свободно наработать. Да только ли на церковь! У отца моего, не знаю, как у прадеда, дом был двухэтажный, под железной крышей. Низ - из камней, верх - бревно с тесовой обшивкой да еще и покрашенной. Внизу трактир на два зала, с несколькими кабинетами, как тогда называли отдельные комнаты для желающих.»
Не менее удачно Кочетов нарисовал портрет самиздатчицы Жанночки, пожилой алкоголички - интеллектуалки, сидящий в захламленной квартире и проводящей время в конспектировании материалов, услышанных по западным «голосам». О том, что многим роман «Чего же ты хочешь?» попал не в бровь, а в глаз, свидетельствует тот факт, что в 1969 году 20 представителей художественной верхушки написали донос с требованием запретить публикацию «мракобесного произведения».
Беда Всеволода Анисимовича заключалась в том, что, будучи сталинистом, он мог только писать о симптомах разложения высших страт советского общества, но причины этого явления для него сводились исключительно к проискам внешних врагов. Кочетов не мог и представит, что столь милые ему персонажи в черных «Волгах», одетые в не очень уклюже сшитые пальто, в одинаковых меховых шапках с превеликим энтузиазмом пересядут с «Волг» на «Мерседесы» и, быстро переодевшись в костюмы от «Бриони», поедут на стриптиз. Он не понимает и не дает ответа, почему молодежь в русской провинции, через которую путешествуют западные злодеи, дружно начинает спонтанно повторять иностранные танцы и копировать манеру приезжих. И еще - до конца книги автор так и не объясняет, чем плох Бабель.
Да и ответов на вызовы времени у Кочетова нет. Его «положительные» персонажи не слишком убедительны в дискуссии, а «злодеи» терпят неудачу исключительно из-за собственных ошибок. Бывший эсэсовец Клауберг из-за стародавней психологической травмы военных лет внезапно срывается и избивает в кровь гламурного московского мальчика Генку Зародова. А если бы злодей не сорвался? - Пережил бы избитый иностранцем Зародов катарсис и покаяние? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
К сожалению, сегодня «Чего же ты хочешь?» читается как роман-предупреждение и сбывшееся мрачное пророчество, однако книга Кочетова - это также и прекрасная иллюстрация кризиса сталинистской идеологии в позднем СССР, которая не могла дать ответа на вызов со стороны либеральных сторонников Реставрации.
"-Папа, а 37-ой год был?
-Нет сынок, но обязательно будет"
Из пародий
Книга Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?» — это поистине легендарное произведение по трем причинам: оно оказало большое влияние на современников; его почти никто не читал; слухи об этой книге более известны, чем ее содержание.
Всеволод Кочетов был главным редактором журнала «Октябрь» и идейным сталинистом, яростно противостоявшим либеральному лобби в КПСС и в литературной среде. Современникам была хорошо известна полемика Кочетова с «Новым миром» и Твардовским. Нетрудно догадаться, то это бодание теленка с дубом не могло закончиться добром. Брежневское руководство (как, кстати, и нынешней режим) старательно лавировало между крайностями, и левые «охранители» ему были еще более чужды чем либералы. В итоге главная книга Кочетова была отправлена на полку, а ее автор покончил с собой.
Содержание «Чего же ты хочешь?» пересказать довольно просто. Группа зарубежных агентов влияния отправляется в СССР формально для составления альбома по русскому искусству, а фактически — для ведения подрывной деятельности. На своем пути они сталкиваются как с добропорядочными советскими патриотами, так и различными диссидентами и моральными разложенцами, вольно или невольно содействующими агентам тлетворного Запада. В романе есть несколько сюжетных линий, персонажи которых в финальных главах собираются в Москве для итоговой схватки сил света с силами тьмы. Конечно, в итоге добро побеждает, и негодяи с позором изгнаны из Советского Союза.
Не будем создавать мифы, «Чего же ты хочешь?» — отнюдь не литературный шедевр. Роман написан плохо, и лишь очень настойчивый читатель способен дочитать его до конца. Как писатель, Кочетов навсегда остался в 30-50-хх годах. По всей видимости, большое влияние на него оказал Аркадий Гайдар, романтический дух которого витает и над кочетовскими пейзажами, и над активизмом главных героев. Правда, поведение персонажей «Судьбы барабанщика» и «РВС», перенесенное в реалии конца 60-х, читается как откровенный фарс и не вызывает ничего, кроме смеха:
«— Феликс…— Ия остановилась посреди двора.— Там иностранка, из Англии, из Америки — не знаю, откуда, показывает стриптиз.
— Что?!
— Да-да, надо это остановить. Нельзя это!»
Как понимает читатель, стриптиз показывался для разложения советской молодежи, а исполнительницей выступала тридцатилетняя дама, потомственная проститутка-эмигрантка-агент ЦРУ и специалист мирового уровня по русскому искусству (!).
К этому следует добавить, что на свою беду Кочетов решил бить по площадям и изобличить всех врагов советского социализма, которых он только мог себе вообразить. По шапке получают «деревенщики»-националисты, либеральная фронда в интеллектуальных кругах, церковь, эмигранты, еврокоммунисты, «золотая молодежь», разлагающаяся под тлетворным влиянием Запада, Бабель с Цветаевой и, конечно, троцкисты. Если диссидентов-антисоветчиков Всеволод Анисимович описывает достаточно реалистично, то западные представители пятой колонны настолько далеки от своих реальных прототипов, что не вызывают ничего, кроме здорового смеха. Троцкий же представлен создателем зловещего термина «сталинисты», которым клеймят честных и принципиальных партийцев (здесь Кочетов непроизвольно пародирует труды троцкистов, где термином «троцкисты» сталинисты клеймят истинных марксистов-ленинцев).
Есть ли в книге Всеволода Анисимовича удачные моменты? — в отличие от ангажированных критиков признаем, что отдельные главы «Чего же ты хочешь?» написаны неплохо. Автору хорошо удался портрет главной героини Ии, которая поразительно напоминает женские образы Ивана Ефремова. Сюжет с путешествием по России бригады западных спецпропагандистов-самозванцев в специально сконструированном фургоне несет в себе явный отсыл к экипажу «Антилопы-Гну» из «Золотого теленка». Жаль лишь, что Кочетов убийственно серьезен, здоровое чувство юмора — не его сильная черта. Повторим, что автор мастерски описывает знакомых ему по советской жизни персонажей. Вот, например, монолог националиста-почвенника Саввы Мироновича Богородицина, монолог, так часто звучавший на рубеже 80 — 90-хх годов:
«— Надо полагать, богачами вы были, Савва Миронович, если церкви ставить могли?
— А уж не без того. Это сейчас всю историю перекроили. На бедняков да на кулаков Россию рассортировали направо и налево. А в те времена не бедняк был, а лодырь, шпана, шаромыжник. И не кулак был, а первый работник, первый хозяин на селе, крепкий крестьянин, который ни дня покоя не ведал, за урожай бился, за хлеб, за доходность земли. Ну, значит, доподлинно работящими были и мы, Богородицкие, ежели одни, семьей, на церковь могли свободно наработать. Да только ли на церковь! У отца моего, не знаю, как у прадеда, дом был двухэтажный, под железной крышей. Низ — из камней, верх — бревно с тесовой обшивкой да еще и покрашенной. Внизу трактир на два зала, с несколькими кабинетами, как тогда называли отдельные комнаты для желающих.»
Не менее удачно Кочетов нарисовал портрет самиздатчицы Жанночки, пожилой алкоголички — интеллектуалки, сидящий в захламленной квартире и проводящей время в конспектировании материалов, услышанных по западным «голосам». О том, что многим роман «Чего же ты хочешь?» попал не в бровь, а в глаз, свидетельствует тот факт, что в 1969 году 20 представителей художественной верхушки написали донос с требованием запретить публикацию «мракобесного произведения».
Беда Всеволода Анисимовича заключалась в том, что, будучи сталинистом, он мог только писать о симптомах разложения высших страт советского общества, но причины этого явления для него сводились исключительно к проискам внешних врагов. Кочетов не мог и представит, что столь милые ему персонажи в черных «Волгах», одетые в не очень уклюже сшитые пальто, в одинаковых меховых шапках с превеликим энтузиазмом пересядут с «Волг» на «Мерседесы» и, быстро переодевшись в костюмы от «Бриони», поедут на стриптиз. Он не понимает и не дает ответа, почему молодежь в русской провинции, через которую путешествуют западные злодеи, дружно начинает спонтанно повторять иностранные танцы и копировать манеру приезжих. И еще — до конца книги автор так и не объясняет, чем плох Бабель.
Да и ответов на вызовы времени у Кочетова нет. Его «положительные» персонажи не слишком убедительны в дискуссии, а «злодеи» терпят неудачу исключительно из-за собственных ошибок. Бывший эсэсовец Клауберг из-за стародавней психологической травмы военных лет внезапно срывается и избивает в кровь гламурного московского мальчика Генку Зародова. А если бы злодей не сорвался? — Пережил бы избитый иностранцем Зародов катарсис и покаяние? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
К сожалению, сегодня «Чего же ты хочешь?» читается как роман-предупреждение и сбывшееся мрачное пророчество, однако книга Кочетова — это также и прекрасная иллюстрация кризиса сталинистской идеологии в позднем СССР, которая не могла дать ответа на вызов со стороны либеральных сторонников Реставрации.
Роман Кочетова - быть может последнего мегаортодоксального писателя в советской литертуре, который верил на самом деле, а не делал вид, что верит, чтобы иметь с этого всякие плюшки, как другие, вызвал серьезнейший батхёрт у советской либеральной интеллигенции. Вот один из откликов.
З.Паперный
Чего же он кочет?
(пародия на роман Всеволода Кочетова "Чего же ты хочешь?" ("Октябрь", NN 9-11, 1969))
Советская девушка Лера Васильева вышла замуж за итальянца Спада, тезку Муссолини. Вначале ее муж назвался просто Беном, и она, ни о чем не подозревая, поехала с ним в Италию, к Бениной матери. Все там было не как в Москве. В магазинах были товары. Это было пугающе непривычно. "Что-то тут не так", — насторожилась Лера.
Антонин Свешников писал картины стилем рюс.
— Мистер Свешников, — спросил его один иностранец, — вас устраивает метод соцреализма?
— Нет! — ответил Свешников, густо окая.
У рабочего человека Феликса Самарина не было конфликтов отцов и детей с отцом.
— Давай, отец, потолкуем, — сказал сын.
— Изволь, — согласился отец, — но только если о заветном. Размениваться на пустячки не намерен. Что тебя заботит, сынок?
— Две заботы сердце гложут, — чистосердечно признался Феликс, — германский реваншизм и американский империализм. Тут, отец, что-то делать надо. И еще одна закавыка. Давно хотел спросить. Скажи, пожалуйста, был тридцать седьмой год или же после тридцать шестого сразу начался тридцать восьмой?
— Тридцать седьмой! Это надо же! — уклончиво воскликнул отец. Его взгляд стал холодней, а глаза потеплели.
— Уравнение с тремя неизвестными, — сказал он молча, — икс, игрек, зек.
Оборудованный по последнему стону запкаптехники шпион-фургон был рассчитан на демонтаж советской идеологии, психологии и физиологии. В нем ехали: германский немец штурмбанфюрер Клауберг, хитро сменивший свою фамилию на Клауберга же, итальянский русский Карадонна-Сабуров, Юджин Росс и -
многоразнопестроликонациональная мисс Порция Браун.
Росс — это бокс, Браун — это секс. Она была крупнейшей представительницей модного сейчас на Западе сексистенциализма. Ее постель имела рекордную пропускную способность. В сущности, это была не постель, а арена яростной борьбы двух миров. Мисс Порция Браун не просто отдавалась — она наводила мосты.
Наш выдающийся (в правую сторону) писатель Василий Булатов приехал в ихнюю Италию. Булатов был даже не инженер, а офицер человеческих душ. Ему было мало их изваевывать — он хотел их завоевывать.
— Зовите меня просто Сева, — удивительно просто и демократично сказал Василий Петрович Булатов Лере Васильевой. "Он похож на горного кочета, расправляющего свои орлиные крылья, — подумалось Лере Васильевой, и что-то где-то в ней радостно екнуло. — А как просто держится: вот уж ни за что не скажешь, что талантливый".
Порция Браун приступила к работе.
— Можно, я буду вас звать просто Фелей? — тихо спросила она, прижимаясь к Феликсу Самарину бедром со вделанным микрофончиком.
В ее бедре что-то щелкнуло.
— Опять короткое замыкание, — грубо выматерилась мисс на одном из иностранных языков. Ей, космополитке, было все равно, на каком.
Василий Булатов был человеком слова. И дела. Его девизом было "Слово и дело". Он помог Лере Васильевой вернуться домой из итальянской глуши.
Взволнованная, она ходила по московским улицам.
— Ну и что с того, что в магазинах нет товаров, — спорила она с Бенито, — но ведь нету наших советских товаров, а не их показной трухи.
Стоило Василию Булатову столкнуться с людьми с законченным высшим образованием — его жизнь становилась невыносимой: сразу же насмешки, желание сказать ему побольней, покомпрометационней. Если бы не встречи с неискушенным в литературе читателем — совсем бы пропал.
Людей он называл ласково-уменьшительно: винтики. Себе отводил роль отвертки. Вернее — завертки.
Булатов не терпел Булатов — тех, что бренчат о последних троллейбусах.
— Ну почему последний? — искренне недоумевал он под одобрительный гул и сочувственный хохот рабочего класса. — Что у нас, троллейбусов мало, что ли?
Булатов неудержимо рвался в будущее. Его любимым выражением было: осади вперед!
Антонину Свешникову стало душно в стиле рюс, и он, порвав со своим рюсским прошлым, написал широкоформатное полотно — рабоче-крестьянская мать.
Счастливая, она родила двойню: рабочего и крестьянина.
— Как вы назовете вашу картину? — ехиднос спросил его один иностранец.
— Гегемона Лиза! — с ходу рубанул Свешников.
А между тем мисс Порция Браун, как все враги, не дремала. На этот раз она собрала в комнате Ии советских парней и девушек и с маху бросилась в диверсию. Испытанное средство — индивидуальный половой террор. Напоив гостей антисоветским джином, мисс начала раздеваться под ритмично и мелодично растлевающую молодые и неопытные души музыку.
Порция неотвратимо расстегивала блузку.
— Товарищи! Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои! — набатно гремел голос Ии. — Вспомним взятие Зимнего, раскулачивание кулака, обеднячивание бедняка, пять в четыре…
Но мисс Порция Браун уже выходила за пределы своей юбки. Еще минута, и наши парни и девушки увидят то, чего… "Скорей! К своим! Этого не должен увидеть каждый!" — задыхалась Ия.
… Узнав, в чем дело, Феликс посерел, осунулся и возмужал. Когда он, только что вышедшая за него замуж Лера Васильева и Ия ворвались в стриптизную, раздевалась девица с лошадиным лицом, не понимая, что она троянский конь мировой реакции. Ее белье лежало на полу, как белые флаги политической капитуляции.
Да, Порция Браун честно отрабатывала свой хлеб, свою порцию, или, по-нашему, пайку.
— Караул устал ждать, — произнес Феликс сурово, но грозно.
Заливаясь слезами, мисс стала одеваться.
Такого поражения многие годы не знал Пентагон.
— Прости, отец, опять я к тебе, — сказал Феликс, входя. — Так как же все-таки — был тридцать седьмой год или нет? Не знаю, кому и верить.
— Не был, — ответил отец отечески ласково, — не был, сынок. Но будет.
(написано в 1969 году, широко ходило в самиздате, опубликовано "Крокодил", N29, 1988)
Всеволод КОЧЕТОВ
Чего же ты хочешь?
Журнал «Октябрь»
№№ 9 – 11, 1969 г.
Разбуженный Клауберг протянул тяжелую белую руку к часам, которые с вечера положил на стул возле постели. Золоченые стрелки показывали час настолько ранний, что невозможно было не выругаться по поводу пронзительно-визгливых ребячьих криков. Что это? Какая надобность выгнала на улицу шальных итальяшек еще до восхода солнца? Обычная их национальная бесцеремонность? Но тогда почему в мальчишеской разноголосице, образуя пеструю звуковую смесь, слышались и восторг и удивление, и Клауберг готов был подумать, что даже и страх.
– Пешеканэ, пешеканэ! – с ударениями на первом и третьем слогах выкрикивали мальчишки за распахнутым окном.– Пешеканэ, пешеканэ!
Уве Клауберг не знал итальянского. В памяти его застряло каких-нибудь несколько десятков здешних слов – с тех пор, когда он расхаживал по землям Италии, хотя, как и ныне, в партикулярном платье, но не скрывая горделивой выправки офицера СС. Было это давно, добрую треть века назад, и с тех давних дней многое, очень многое переменилось.
Прежде всего переменился он сам, Уве Клауберг. Ему стало не двадцать восемь бодрых, сильных, веселых лет, а вот уже исполнилось целых шесть десятков. Нельзя сказать, что в связи с возрастом бодрость покинула его. Нет, на это он жаловаться не будет. В общем, ему живется неплохо. Беда только в том, что через всю его послевоенную жизнь отчетливой, постоянной линией прочерчивается ожидание чего-то такого, чем все однажды и кончится; что оно такое – трудно сказать и трудно представить его себе в конкретности, но оно существует, оно где-то стережет Уве Клауберга и не дает ему жить в прежнюю уверенную силу.
При таких криках, которые слышны там, за окном, в те былые годы он вскочил бы, подобно взведенной боевой пружине; тогда его все всюду интересовало, все для него было любопытным, все хотелось увидеть, услышать, тронуть рукой. Теперь, лежа в постели, на влажноватом от теплого морского воздуха белье, он курил невкусную итальянскую сигарету и, вглядываясь в белый потолок простенькой комнатки дешевого приморского пансиона, принадлежавшего лигурийскому рыбаку, лишь старался припомнить, что же могут означать выкрикиваемые мальчишками слова. «Пеше» – это, кажется, рыба, а «канэ» – собака. Значит, что? Собачья рыба? Рыбья собака?…
И все-таки натура себя оказала, она подняла Клауберга на ноги, тем более, что за окном кричали уже не одни мальчишки, а в общую шумиху ввязались и взрослые – мужчины и женщины.
Отодвинув легкую цветастую штору, он увидел крохотную площадь, окруженную двухэтажными домиками, которую вчера за поздним временем толком не разглядел; прямо перед его окном располагалась лавочка с выставленными на тротуар обычными итальянскими товарами – бутылями вина, банками консервов, грудами овощей и фруктов; по зеленому с фестончиками тенту, под общей вывеской alimentari, то есть пищевые продукты, были разбросаны слова pane, focaccia, salumi. которые Клауберг прочел, как «хлеб», «пшеничные лепешки», «копчености-колбасы».
Но самое главное было не в лавочке, а перед лавочкой. Перед нею в густом людском скоплении стояли двое в одежде рыбаков и держали – один за голову, охваченную веревочной петлей, другой за хвост, проткнутый железным крюком, длинную, почти двух метров, темно-серую узкую рыбину с белым брюхом. Ну как он, Уве Клауберг, сразу-то не догадался, что означают слова «рыба» и «собака», сведенные воедино! Это же акула, акула!
Когда, проделав свой обычный утренний туалет и порассматривав фотоснимки в итальянской газете, подсунутой ему под дверь, он часа полтора спустя вышел к завтраку, накрытому на терраске, пристроенной к дому со стороны моря, крупная, упитанная хозяйка с огромными черными глазами, под общей черной полосой бровей, смуглая и подвижная, тотчас воскликнула:
– О синьор! Это ужасно!
«Ужасно», то есть terribile, и, конечно, signore он понял, но дальше его познания в чужом языке не шли. Усмехнувшись горячности хозяйки, он пожал плечами и принялся за еду.
Хозяйка не унималась. Она все говорила и говорила, размахивала руками и хлопала ими себя по внушительным бедрам.
Кроме Клауберга, на терраске была еще одна гостья, молодая женщина с мальчиком лет четырех-пяти, которого она держала на коленях и кормила кашей.
– Мадам,– заговорил, обращаясь к ней наугад по-английски, Клауберг, – прошу прощения, но не смогли бы вы перевести мне то, что так темпераментно излагает эта синьора?
– Пожалуйста.– охотно откликнулась женщина.– Она говорит, что это ужасно – акула в здешних местах. Это значит, что теперь с побережья убегут все постояльцы и тогда хоть пропадай, так как главный свой доход здешние жители получают от сдачи комнат на летний сезон. Если этого не будет, им останется одно – ловить рыбу. А от продажи рыбы на берегу моря много не выручишь.
– А что, разве акул здесь раньше не бывало?
– Никогда. Первый случай. В местечке все встревожены и напуганы.
Женщина говорила по-английски хуже, чем он, Клауберг. и с еще более отчетливым акцентом, но тем не менее ему никак не удавалось определить по ее говору, к какой же она принадлежит национальности. На Лигурийское побережье в купальный сезон съезжаются люди со всей Европы. Одни, которые побогаче, предпочитают Ривьеру с шикарными дорогими отелями на самом берегу; другие, менее состоятельные, забираются сюда, в селения восточнее Альбенги. Клаубергу было известно, что поселок Вариготта, где он остановился, – один из самых нефешенебельных. Кроме песчаного пляжа, загроможденного камнями, да морского воздуха, которого, правда, сколько хочешь, здесь ничего другого и нет.
Нет казино, нет всемирно известных ресторанов, нет крупных отелей, – только дома рыбаков да множество небольших грязноватых пансионов. Hи англичане, ни французы, ни тем более американцы сюда не ездят; разве лишь скандинавы да расчетливые соотечественники Клауберга – западные немцы. Молодая женщина эта, конечно, не немка. Может быть, норвежка или финка?
Завтракая, он то посматривал на нее, то вглядывался в тихое море. От береговой линии в морскую лазурь тянулся мол, сложенный из угловатых каменных глыб; какие-то двое, перепачканные в известке, закидывали с него удочки. По пляжу – вправо и влево от мола – в пестрых купальных костюмах бродили любители ранних морских ванн; одни еще только готовились броситься в лениво набегавшие зеленые волны, другие уже валялись в грязном, полном мусора песке, перемешанном с гравием, и подставляли свои тела утреннему солнцу.
Метрах в пятидесяти от воды по берегу пролегала автомобильная дорога, по которой накануне вечером Клауберг прибыл рейсовым автобусом из Турина в Савону. А метрах в десяти за автомобильной дорогой поблескивали рельсы электрички; в ее вагоне он из Савоны ехал в эту неведомую рыбачью Вариготту.
– Перестань! – услышал Клауберг, и ему показалось, что он даже внутренне вздрогнул от неожиданного в этих местах русского слова, брошенного молодой женщиной ребенку. – Ты меня измучил! Иди побегай! Встречай папу. Вон он идет!
С берега, от каменного мола, размахивая мокрым полотенцем, к веранде подымался молодой, одних лет с женщиной, невысокий, остроносенький, одутловатенький,– Клауберг поручился бы, что и не русский и не итальянец, а типичный мюнхенский бюргерчик. Подсаживаясь к столу, он ответил ребенку по-русски, затем заговорил с женщиной по-итальянски; она так же бойко отвечала ему то по-русски, то по-итальянски, и Клаубергу оставалось и дальше ломать голову, кто же они, эти молодые люди, уверенно говорящие на нескольких языках.
Всеволод КОЧЕТОВ
Чего же ты хочешь?
Журнал «Октябрь»
№№ 9 – 11, 1969 г.
Разбуженный Клауберг протянул тяжелую белую руку к часам, которые с вечера положил на стул возле постели. Золоченые стрелки показывали час настолько ранний, что невозможно было не выругаться по поводу пронзительно-визгливых ребячьих криков. Что это? Какая надобность выгнала на улицу шальных итальяшек еще до восхода солнца? Обычная их национальная бесцеремонность? Но тогда почему в мальчишеской разноголосице, образуя пеструю звуковую смесь, слышались и восторг и удивление, и Клауберг готов был подумать, что даже и страх.
– Пешеканэ, пешеканэ! – с ударениями на первом и третьем слогах выкрикивали мальчишки за распахнутым окном.– Пешеканэ, пешеканэ!
Уве Клауберг не знал итальянского. В памяти его застряло каких-нибудь несколько десятков здешних слов – с тех пор, когда он расхаживал по землям Италии, хотя, как и ныне, в партикулярном платье, но не скрывая горделивой выправки офицера СС. Было это давно, добрую треть века назад, и с тех давних дней многое, очень многое переменилось.
Прежде всего переменился он сам, Уве Клауберг. Ему стало не двадцать восемь бодрых, сильных, веселых лет, а вот уже исполнилось целых шесть десятков. Нельзя сказать, что в связи с возрастом бодрость покинула его. Нет, на это он жаловаться не будет. В общем, ему живется неплохо. Беда только в том, что через всю его послевоенную жизнь отчетливой, постоянной линией прочерчивается ожидание чего-то такого, чем все однажды и кончится; что оно такое – трудно сказать и трудно представить его себе в конкретности, но оно существует, оно где-то стережет Уве Клауберга и не дает ему жить в прежнюю уверенную силу.
При таких криках, которые слышны там, за окном, в те былые годы он вскочил бы, подобно взведенной боевой пружине; тогда его все всюду интересовало, все для него было любопытным, все хотелось увидеть, услышать, тронуть рукой. Теперь, лежа в постели, на влажноватом от теплого морского воздуха белье, он курил невкусную итальянскую сигарету и, вглядываясь в белый потолок простенькой комнатки дешевого приморского пансиона, принадлежавшего лигурийскому рыбаку, лишь старался припомнить, что же могут означать выкрикиваемые мальчишками слова. «Пеше» – это, кажется, рыба, а «канэ» – собака. Значит, что? Собачья рыба? Рыбья собака?…
И все-таки натура себя оказала, она подняла Клауберга на ноги, тем более, что за окном кричали уже не одни мальчишки, а в общую шумиху ввязались и взрослые – мужчины и женщины.
Отодвинув легкую цветастую штору, он увидел крохотную площадь, окруженную двухэтажными домиками, которую вчера за поздним временем толком не разглядел; прямо перед его окном располагалась лавочка с выставленными на тротуар обычными итальянскими товарами – бутылями вина, банками консервов, грудами овощей и фруктов; по зеленому с фестончиками тенту, под общей вывеской alimentari, то есть пищевые продукты, были разбросаны слова pane, focaccia, salumi. которые Клауберг прочел, как «хлеб», «пшеничные лепешки», «копчености-колбасы».
Но самое главное было не в лавочке, а перед лавочкой. Перед нею в густом людском скоплении стояли двое в одежде рыбаков и держали – один за голову, охваченную веревочной петлей, другой за хвост, проткнутый железным крюком, длинную, почти двух метров, темно-серую узкую рыбину с белым брюхом. Ну как он, Уве Клауберг, сразу-то не догадался, что означают слова «рыба» и «собака», сведенные воедино! Это же акула, акула!
Когда, проделав свой обычный утренний туалет и порассматривав фотоснимки в итальянской газете, подсунутой ему под дверь, он часа полтора спустя вышел к завтраку, накрытому на терраске, пристроенной к дому со стороны моря, крупная, упитанная хозяйка с огромными черными глазами, под общей черной полосой бровей, смуглая и подвижная, тотчас воскликнула:
– О синьор! Это ужасно!
«Ужасно», то есть terribile, и, конечно, signore он понял, но дальше его познания в чужом языке не шли. Усмехнувшись горячности хозяйки, он пожал плечами и принялся за еду.
Хозяйка не унималась. Она все говорила и говорила, размахивала руками и хлопала ими себя по внушительным бедрам.
Кроме Клауберга, на терраске была еще одна гостья, молодая женщина с мальчиком лет четырех-пяти, которого она держала на коленях и кормила кашей.
– Мадам,– заговорил, обращаясь к ней наугад по-английски, Клауберг, – прошу прощения, но не смогли бы вы перевести мне то, что так темпераментно излагает эта синьора?
– Пожалуйста.– охотно откликнулась женщина.– Она говорит, что это ужасно – акула в здешних местах. Это значит, что теперь с побережья убегут все постояльцы и тогда хоть пропадай, так как главный свой доход здешние жители получают от сдачи комнат на летний сезон. Если этого не будет, им останется одно – ловить рыбу. А от продажи рыбы на берегу моря много не выручишь.
– А что, разве акул здесь раньше не бывало?
– Никогда. Первый случай. В местечке все встревожены и напуганы.
Женщина говорила по-английски хуже, чем он, Клауберг. и с еще более отчетливым акцентом, но тем не менее ему никак не удавалось определить по ее говору, к какой же она принадлежит национальности. На Лигурийское побережье в купальный сезон съезжаются люди со всей Европы. Одни, которые побогаче, предпочитают Ривьеру с шикарными дорогими отелями на самом берегу; другие, менее состоятельные, забираются сюда, в селения восточнее Альбенги. Клаубергу было известно, что поселок Вариготта, где он остановился, – один из самых нефешенебельных. Кроме песчаного пляжа, загроможденного камнями, да морского воздуха, которого, правда, сколько хочешь, здесь ничего другого и нет.
Нет казино, нет всемирно известных ресторанов, нет крупных отелей, – только дома рыбаков да множество небольших грязноватых пансионов. Hи англичане, ни французы, ни тем более американцы сюда не ездят; разве лишь скандинавы да расчетливые соотечественники Клауберга – западные немцы. Молодая женщина эта, конечно, не немка. Может быть, норвежка или финка?
Завтракая, он то посматривал на нее, то вглядывался в тихое море. От береговой линии в морскую лазурь тянулся мол, сложенный из угловатых каменных глыб; какие-то двое, перепачканные в известке, закидывали с него удочки. По пляжу – вправо и влево от мола – в пестрых купальных костюмах бродили любители ранних морских ванн; одни еще только готовились броситься в лениво набегавшие зеленые волны, другие уже валялись в грязном, полном мусора песке, перемешанном с гравием, и подставляли свои тела утреннему солнцу.
Метрах в пятидесяти от воды по берегу пролегала автомобильная дорога, по которой накануне вечером Клауберг прибыл рейсовым автобусом из Турина в Савону. А метрах в десяти за автомобильной дорогой поблескивали рельсы электрички; в ее вагоне он из Савоны ехал в эту неведомую рыбачью Вариготту.